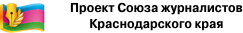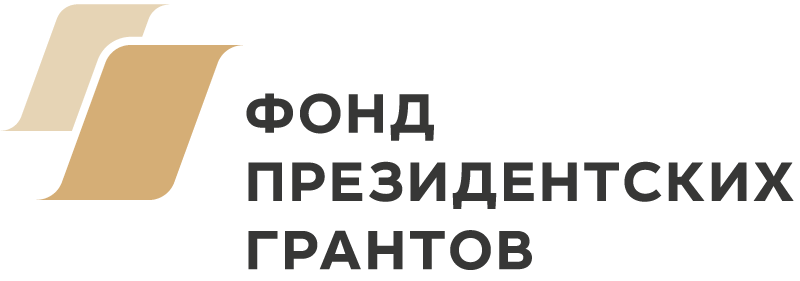Павел Максимович Цапко (род. около 1905 г), старший сержант. Работал агрономом. 18 августа 1941 года призван в армию, в 7 запасной стрелковый полк, позже — в 1662 отдельный батальон 29 бригады 10 саперной армии, откуда был откомандирован в 1675 батальон в должности помкомвзвода. К концу войны состоял в штабе 926 отдельного корпусного саперного батальона 4 гвардейского стрелкового Бранденбургского Краснознаменного корпуса. Участвовал в форсировании Вислы и Одера, прорывах на Ингульце и под Ковелем, обороне Днестровского плацдарма. Был контужен в боях за Берлин. Награжден орденом Красной Звезды, медалью “За оборону Кавказа” и др.
Из дневников Павла Максимовича Цапко
от 8 апреля 1945 года:
“Получили приказ из штаба корпуса нашему батальону засеять 30 гектаров яровыми культурами в прифронтовой полосе. Сразу нас, конечно, такой приказ очень удивил.
Узнали, что такой приказ получили многие другие части.
Необходимость этого мероприятия выходила из следующих соображений. Наша армия находилась в тысячах километров от своих глубоких тылов, откуда нужно было доставлять большое количество продовольствия, фуража. Да не так было много всего этого и в нашем краю, разоренном немцами. Беспрерывным потоком надо было подвозить танки, орудия, огромное количество боеприпасов, войска и многое другое.
Железнодорожный транспорт был разрушен. Доставлять это все на огромное расстояние было в высшей степени затруднительно. Кроме того, война должна скоро закончиться. Гражданское население Германии, особенно Берлина, тоже чем-то придется кормить, а между тем остаются незасеянными сотни тысяч гектаров плодородной земли в прифронтовой полосе, откуда всех немцев убрали.
Командование фронтом решило использовать перерыв в наступлении и засеять прифронтовые земли тех войск, которые в настоящее время не принимают непосредственного участия в боях на плацдарме, используя подсобные подразделения, выздоравливающих.
Мне, как агроному, комбат приказал возглавить это дело. С большим удовольствием я взялся за организацию этой работы, от которой уже начал отвыкать за четыре года войны.
Наш участок отвели за 9 километров от Запцига, возле города Зонненбурга. Достали плуги, бороны, сеялки, культиваторы — такого добра было много в каждом дворе. И вот мои кубанские казаки, полтавские хлеборобы-колхозники принялись с не меньшим удовольствием, чем я, распахивать немецкую землю.
Проезжающие мимо бойцы или командиры останавливались и спрашивали весело понукающих в сеялке ездовых:
— Какой колхоз?
— Колхоз “Победа” или колхоз “Смерть Гитлеру”, отшучивались, в свою очередь бойцы-хлеборобы, уже истосковавшиеся по своим кровным делам, от которых их отняла война.
— Никогда раньше, конечно, не думалось и не снилось мне, что в 70 километрах от Берлина придется заниматься сельским хозяйством, мерить полевым метром посеянные участки в слиянии рек Варты и Одера.
— Выходит бывает все, даже то, что и во сне не снилось.”
Из третьего тома книги “Письма с фронта”…