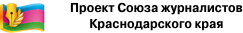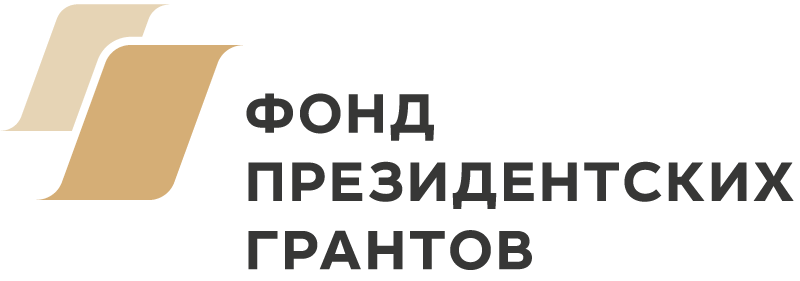Кранодарский ветеран рассказал, на что шли советские разведчики, чтобы взять «языка»
Чтобы выследить «достойного языка», приходилось по нескольку дней лежать в укрытии, притворяясь кустом, или сидеть на дереве, ни разу не сменив позы.
Петр Иванович Годовов, во время Великой Отечественной войны командовавший отделением во взводе разведки, рассказал «Краснодарским известиям» о некоторых своих боевых заданиях.
Шубу – на фронт
Петр Иванович родился 8 января 1925 года в селе Федоровка Оренбургской области. С малых лет работал на сенокосе, потом учетчиком в полеводческой бригаде в колхозе, председателем которого являлся его отец. О войне он узнал, как и большинство советских граждан, из радиосообщения.
«В этот момент мы были на работе, и, когда услышали, что Германия напала на Советский Союз, были возмущены до глубины души: как, ведь у нас с немцами договор о ненападении, мы же им за границу пшеницу эшелонами отправляли, а они вторглись к нам с оружием?!
И все мужчины и мальчишки, включая меня, отправились в военкомат. Моего отца забрали на фронт, а мне дали от ворот поворот – слишком мал».
У детей была другая задача: заменить отцов и старших братьев в поле, и Петр Годовов освоил трактор.
А еще вместе с другими комсомольцами и учителями он ходил по домам односельчан с вопросом: «Ваш муж (сын) на фронте. Чем вы можете ему помочь?»
И женщины бросали в подводу валенки, шапки, варежки, шубы. Они прекрасно понимали, что конкретно их родные эти вещи не получат. Но если они оденут чужих мужей или сыновей, другие женщины точно так же помогут их любимым.
Нож, кляп, веревка
В январе 1943 года Петру Ивановичу исполнилось восемнадцать. Как раз в это время к ним в колхоз приехал капитан из военкомата, чтобы узнать, как идут дела со сбором одежды и провизии на фронт.
Тогда же все тридцать юношей, присутствующих на собрании, заявили о своем желании пополнить ряды красноармейцев. В их числе был и Петр Годовов.
«Через три дня я получил повестку, но на передовую попал не сразу: меня отправили на трехмесячные курсы в школу младших командиров. Окончил в звании старшего сержанта, после чего оказался в 141-й дивизии, которая тогда стояла под Уфой».
Годовова назначили командиром отделения во взводе разведки, и его подразделение быстро заслужило уважение начальства за смелость, скорость и ценные сведения, которые разведчикам удавалось добыть в стане врага.
«Как «охотились» на языков? Иногда сидели в засаде несколько дней: следили за передвижением немецких войск, намечали жертву, но не из простых солдат (что ценного они могли бы нам рассказать?), а из командиров.
Когда «цель» была определена, следили за ее передвижениями в течение дня, отмечали место, где ее можно взять без боя, – и вперед: нож к горлу, кляп в рот, веревку на руки.
Приводили «добычу» в штаб, где ею занималось командование. Языки обычно рассказывали все, что от них хотели, так как взамен на информацию им обещали жизнь».
Ответственное поручение
Дивизия получила приказ идти на Киев. Поездом доехали до Ворошиловграда (ныне – Луганск), затем сутки шли пешком. Вышли к реке. Что на том берегу – неясно. Разведка, как обычно, пошла первой.
«Перед наступлением ко мне подошел командир дивизии, генерал, вручил радиопередатчик в деревянном ящике и приказал беречь его как зеницу ока. Сказал, чтобы я ждал его на том берегу в определенном месте.
Уже после я узнал, что он осведомился у своих командиров, кому можно доверить связь дивизии, и те указали на разведчиков, конкретно – на мое отделение».
Об этом случае разведчики сразу же доложили командованию, и то по своим каналам выяснило, что «немцы» – это русские диверсанты, которые из-под носа врага вывозят на советский фронт их продукты и оружие.
Смертоносное угощение
На окраине Житомира красноармейцев, первыми вошедших в город, ждало странное угощение: прямо на расстеленных на асфальте газетах лежали караваи хлеба, батоны колбасы, а рядом – бочка с вином. Все выглядело так, будто немцы побросали склады с провизией и спешно бежали.
«А мы голодные были – два дня не ели и, понятно, набросились на еду. Многие приложились к бочонку и вскоре стали петь пьяные песни.
Я посмотрел на эту картину и сказал своим не пить: как-то все уж очень благостно. И оказался прав: через несколько минут мы услышали шум двигателей и тут же увидели немецкие танки.
Они шли прямо на пирующих. Кто был трезв – убежал в лес, но большинство так и осталось лежать у того «стола»…
Житомир освобождали дважды: 13 ноября и уже окончательно – 31 декабря 1943 года. После первого бегства немцам удалось оперативно перегруппировать свои силы и подтянуть к городу значительные резервы. Житомир был снова занят врагом уже 19 ноября.
Орден – за языка
После освобождения Украины дивизия Годовова пошла на Чехословакию. Под городом Левице отделению Петра Ивановича удалось взять языка, которого они выслеживали несколько дней, наблюдая за передвижениями немецких войск.
«Мы взяли сержанта, который обладал такими сведениями, что за них меня впоследствии наградили орденом Красной Звезды, а моих боевых товарищей – медалями «За отвагу».
Жители чешских городов Малацкий и Левице были так благодарны советским воинам за свое освобождение, что впоследствии присвоили многим из них звание почетных жителей, в том числе и Петру Годовову.
А в местечке Кална-на-Гроне под Левице даже установлена памятная табличка на том месте, где был ранен Петр Иванович.
«Когда мы покидали город, выяснилось, что в лесах в предместьях Левице еще остаются разрозненные группы врагов. Разведчиков отправили назад выследить их и уничтожить.
В том бою я потерял мизинец на правой руке, получил множественные осколочные ранения горла, и, пока лежал в госпитале, пришла Победа».
После войны Петр Годовов много лет работал мастером на ЗИПе, потом перешел на Масложиркомбинат. Выйдя на пенсию, занимался общественной работой. У Петра Ивановича двое детей, пятеро внуков и восемь правнуков.
Петр Иванович Годовов встретит День Победы при полном параде в кругу большой семьи.